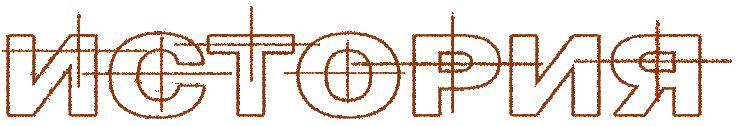Наши проекты
Обсуждения
Глава II. Итальянская кампания 1796—1797 гг.
С того самого времени, как Бонапарт разгромил монархический мятеж 13 вандемьера и вошел в фавор к Баррасу и другим сановникам, он не переставал убеждать их в необходимости предупредить действия вновь собравшейся против Франции коалиции держав - повести наступательную войну против австрийцев и их итальянских союзников и вторгнуться для этого в северную Италию. Собственно, эта коалиция была не новая, а старая, та самая, которая образовалась еще в 1792 г. и от которой в 1795 г. отпала Пруссия, заключившая сепаратный (Базельский) мир с Францией. В коалиции оставались Австрия, Англия, Россия, королевство Сардинское, Королевство обеих Сицилии и несколько германских государств (Вюртемберг, Бавария, Баден и др.). Директория, как и вся враждебная ей Европа, считала, что главным театром предстоящей весенней и летней кампании 1796 г. будет, конечно, западная и юго-западная Германия, через которую французы будут пытаться вторгнуться в коренные австрийские владения. Для этого похода Директория готовила самые лучшие свои войска и самых выдающихся своих стратегов во главе с генералом Моро. Для этой армии не щадились средства, ее обоз был прекрасно организован, французское правительство больше всего рассчитывало именно на нее.
Что касается настойчивых уговариваний генерала Бонапарта относительно вторжения из южной Франции в граничащую с ней северную Италию, то Директория не очень увлекалась этим планом. Правда, приходилось учитывать, что это вторжение могло быть полезным как диверсия, которая заставит венский двор раздробить свои силы, отвлечь свое внимание от главного, германского, театра предстоящей войны. Решено было пустить в ход несколько десятков тысяч солдат, стоявших на юге, чтобы побеспокоить австрийцев и их союзника, короля Сардинского. Когда возник вопрос, кого назначить главнокомандующим на этом второстепенном участке фронта войны, Карно (а не Баррас, как долго утверждали) назвал Бонапарта. Остальные директора согласились без труда, потому что никто из более важных и известных генералов этого назначения очень и не домогался. Назначение Бонапарта главнокомандующим этой предназначенной действовать в Италии («итальянской») армии состоялось 23 февраля 1796 г., а уже II марта новый главнокомандующий выехал к месту своего назначения.
Эта первая война, которую вел Наполеон, окружена была всегда в его истории особым ореолом. Его имя пронеслось по Европе впервые именно в этом (1796) году и с тех пор уже не сходило с авансцены мировой истории: «Далеко шагает, пора унять молодца!» - эти слова старика Суворова были сказаны именно в разгаре итальянской кампании Бонапарта. Суворов один из первых указал на поднимающуюся грозовую тучу, которой суждено было так долго греметь над Европой и поражать ее молниями.
Прибыв к своей армии и произведя ей смотр, Бонапарт мог сразу догадаться, почему наиболее влиятельные генералы Французской республики не очень добивались этого поста. Армия была в таком состоянии, что походила скорее на скопище оборванцев. До такого разгула хищничества и казнокрадства всякого рода, как в последние годы термидорианского Конвента и при Директории, французское интендантское ведомство еще никогда не доходило. На эту армию, правда, не очень много и отпускалось Парижем, но и то, что отпускалось, быстро и бесцеремонно разворовывалось. 43 тысячи человек жили на квартирах в Ницце и около Ниццы, питаясь неизвестно чем, одеваясь неизвестно во что. Не успел Бонапарт приехать, как ему донесли, что один батальон накануне отказался исполнить приказ о переходе в другой указанный ему район, потому что ни у кого не было сапог. Развал в материальном быту этой заброшенной и забытой армии сопровождался упадком дисциплины. Солдаты не только подозревали, но и воочию видели повальное воровство, от которого они так страдали.
Бонапарту предстояло труднейшее дело: не только одеть, обуть, дисциплинировать свое войско, но сделать это на ходу, уже во время самого похода, в промежутках между сражениями. Откладывать поход он ни за что не хотел. Его положение могло осложниться трениями с подчиненными ему начальниками отдельных частей этой армии вроде Ожеро, Массена или Серрюрье. Они охотно подчинились бы старшему или более заслуженному (вроде Моро, главнокомандующему на западногерманском фронте), но признавать своим начальником 27-летнего Бонапарта им казалось просто оскорбительным. Могли произойти столкновения, и стоустая казарменная молва на все лады повторяла, переиначивала, распространяла, изобретала, вышивала по этой канве всякие узоры. Повторяли, например, пущенный кем-то слух, будто во время одного резкого объяснения маленький Бонапарт сказал, глядя снизу вверх на высокого Ожеро: «Генерал, вы ростом выше меня как раз на одну голову, но если вы будете грубить мне, то я немедленно устраню это отличие». На самом деле, с самого начала Бонапарт дал понять всем и каждому, что он не потерпит в своей армии никакой противодействующей воли и сломит всех сопротивляющихся, независимо от их ранга и звания. «Приходится часто расстреливать», - мельком и без всяких потрясений доносил он в Париж Директории.
Бонапарт резко и немедленно повел борьбу с безудержным воровством. Солдаты это сейчас же заметили, и это гораздо больше, чем все расстрелы, помогло восстановлению дисциплины. Но Бонапарт был поставлен в такое положение, что откладывать военные действия до того, когда будет закончена экипировка армии, значило фактически пропустить кампанию 1796 г. Он принял решение, которое прекрасно сформулировано в его первом воззвании к войскам. Много было споров о том, когда именно это воззвание получило ту окончательную редакцию, в которой оно перешло в историю, и теперь новейшие исследователи биографии Наполеона уже не сомневаются, что только первые фразы были подлинны, а почти все остальное это красноречие прибавлено позже. Замечу, что и в первых фразах можно ручаться больше за основной смысл, чем за каждое слово. «Солдаты, вы не одеты, вы плохо накормлены... Я хочу повести вас в самые плодородные страны в свете».
Бонапарт с первых же шагов считал, что война должна сама себя кормить и что необходимо заинтересовать непосредственно каждого солдата в предстоящем нашествии на северную Италию, не откладывать нашествия до того, как все нужное будет армией получено, а показать армии, что от нее самой зависит забрать силой у неприятеля все необходимое и даже больше того. Молодой генерал объяснялся со своей армией так только на этот раз. Он всегда умел создавать, усиливать и поддерживать свое личное обаяние и власть над солдатской душой. Сентиментальные россказни о «любви» Наполеона к солдатам, которых он в припадке откровенности называл пушечным мясом, ровно ничего не значат. Не было любви, но была большая заботливость о солдате. Наполеон умел придавать ей такой оттенок, что солдаты объясняли ее именно вниманием полководца к их личности, в то время как на самом деле он стремятся только иметь в руках вполне исправный и боеспособный материал.
В апреле 1796 г., начиная свой первый поход, Бонапарт был в глазах своей армии только способным артиллеристом, хорошо служившим два с лишком года тому назад под Тулоном, генералом, расстрелявшим в вандемьере бунтовщиков, шедших на Конвент, и только за это получившим свой командный пост в южной армии, - вот и все. Личного обаяния и безоговорочной власти над солдатом Бонапарт еще не имел. Он и решил подействовать на своих полуголодных и полуобутых солдат лишь прямым, реальным, трезвым указанием на материальные блага, ожидающие их в Италии.
9 апреля 1796 г. Бонапарт двинул свои войска через Альпы.
Знаменитый автор многотомной истории наполеоновских походов, ученый стратег и тактик, генерал Жомини, швейцарец, бывший сначала на службе у Наполеона, а потом перешедший в Россию, отмечает, что буквально с первых дней этого первого своего командования Бонапарт обнаружил доходящую до дерзости смелость и презрение к личным опасностям: он со своим штабом прошел по самой опасной (но краткой) дороге, по знаменитому «Карнизу» Приморской горной гряды Альпийских гор, где во все время перехода они находились под пушками крейсировавших у самого берега английских судов. Тут впервые сказалась одна черта Бонапарта. С одной стороны, в нем никогда не было той рисовки молодечеством, лихой отвагой и бесстрашием, какая была присуща, например, его современникам - маршалам Ланну, Мюрату, Нею, генералу Милорадовичу, а из позднейших военачальников - Скобелеву; Наполеон всегда считал, что без определенной, безусловной необходимости военачальник не должен во время войны подвергаться личной опасности по той простой причине, что его гибель сама по себе может повлечь за собой смятение, панику и проигрыш сражения или даже всей войны. Но, с другой стороны, он полагал, что если обстоятельства сложатся так, что личный пример решительно необходим, то военачальник должен не колеблясь идти под огонь.
Путешествие по «Карнизу» с 5 по 9 апреля 1796 г. прошло благополучно. Бонапарт очутился в Италии и немедленно принял решение. Перед ним были совместно действовавшие австрийские и пьемонтские войска, разбросанные тремя группами на путях в Пьемонт и Геную. Первое сражение с австрийским командующим Держанто произошло в центре, у Монтенотте. Бонапарт, собрав свои силы в один большой кулак, ввел в заблуждение австрийского главнокомандующего Болье, который находился южнее - на пути к Генуе, и стремительно напал на австрийский центр. В несколько часов дело кончилось разгромом австрийцев. Но это была только часть австрийской армии. Бонапарт, дав самый краткий отдых своим солдатам, двинулся дальше. Следующая битва (при Миллезимо) произошла через два дня после первой, и пьемонтские войска потерпели полное поражение. Масса перебитых на поле сражения, сдача пяти батальонов с 13 орудиями в плен, бегство остатков сражавшейся армии - таковы были результаты дня для союзников. Немедленно Бонапарт продолжил свое движение, не давая врагу оправиться и прийти в себя.
Военные историки считают первые битвы Бонапарта - «шесть побед в шесть дней» - одним сплошным большим сражением. Основной принцип Наполеона выявился вполне в эти дни: быстро собирать в один кулак большие силы, переходить от одной стратегической задачи к другой, не затевая слишком сложных маневров, разбивая силы противника по частям.
Проявилась и другая его черта - уменье сливать политику и стратегию в одно неразрывное целое: переходя от победы к победе в эти апрельские дни 1796 г., Бонапарт все время не упускал из виду, что ему нужно принудить Пьемонт (Сардинское королевство) поскорее к сепаратному миру, чтобы остаться лицом к лицу с одними австрийцами. После новой победы французов над пьемонтцами при Мондози и сдачи этого города Бонапарту пьемонтский генерал Колли начал переговоры о мире, и 28 апреля перемирие с Пьемонтом было подписано. Условия перемирия были весьма суровы для побежденных: король Пьемонта, Виктор-Амедей, отдавал Бонапарту две лучшие свои крепости и целый ряд других пунктов. Окончательный мир с Пьемонтом был подписан в Париже 15 мая 1796 г. Пьемонт всецело обязывался не пропускать через свою территорию ничьих войск, кроме французских, не заключать отныне ни с кем союзов, уступал Франции графство Ниццу и всю Савойю; граница между Францией и Пьемонтом сверх того «исправлялась» к очень значительной выгоде Франции. Пьемонт обязывался доставлять французской армии все нужные ей припасы.
Итак, первое дело было сделано. Оставались австрийцы. После новых побед Бонапарт отбросил их к реке По, заставил их отступить к востоку от По и, перейдя на другой берег По, продолжал преследование. Паника объяла все итальянские дворы. Герцог Пармский, который, собственно, вовсе и не воевал с французами, пострадал одним из первых. Бонапарт не внял его убеждениям, не признал его нейтралитета, наложил на Парму контрибуцию в 2 миллиона франков золотом и обязал доставить 1700 лошадей. Двинувшись дальше, он подошел к местечку Лоди, где ему нужно было перейти через реку Адду. Этот важный пункт защищал 10-тысячный австрийский отряд.
10 мая произошло знаменитое сражение под Лоди. Тут снова, как при марше по «Карнизу», Бонапарт нашел нужным рискнуть жизнью: самый страшный бой завязался у моста, и главнокомандующий во главе гренадерского батальона бросился прямо под град пуль, которыми австрийцы осыпали мост. 20 австрийских орудий буквально сметали картечью все на мосту и около моста. Гренадеры с Бонапартом во главе взяли мост и далеко отбросили австрийцев, которые оставили на месте около 2 тысяч убитыми и ранеными и 15 пушек. Немедленно Бонапарт начал преследование отступающего неприятеля и 15 мая вошел в Милан. Еще накануне этого дня, 14 мая (25 флореаля), он писал Директории в Париж: «Ломбардия принадлежит сейчас (Французской) республике».
В июне французский отряд под начальством Мюрата занял, согласно приказу Бонапарта, Ливорно, а генерал Ожеро занял Болонью. Бонапарт в середине июня лично занял Модену, затем наступила очередь Тосканы, хотя герцог Тосканский был нейтрален в происходившей франко-австрийской войне. Бонапарт не обращал на нейтралитет этих итальянских государств ни малейшего внимания. Он входил в города и деревни, реквизировал все нужное для армии, забирал часто и все вообще, что ему казалось достойным этого, начиная с пушек, пороха и ружей и кончая картинами старых мастеров эпохи Ренессанса.
Бонапарт смотрел на эти тогдашние увлечения своих воинов очень снисходительно. Дело дошло до мелких вспышек и восстаний. В Павии, в Луго, произошли нападения местного населения на французские войска. В Луго (недалеко от Феррары) толпа убила 5 французских драгун, за что город подвергся каре: изрублено было несколько сот человек, а город отдан был на поток и разграбление солдатам, которые перебили всех жителей, подозревавшихся во враждебных намерениях. Такие же жестокие уроки были даны и в других местах. Значительно усилив свою артиллерию пушками и снарядами, как взятыми у австрийцев с бою, так и отнятыми у нейтральных итальянских государств, Бонапарт двинулся дальше, к крепости Мантуе, одной из сильнейших в Европе по естественным условиям и по искусственно созданным укреплениям.
Бонапарт едва успел приступить к правильной осаде Мантуи, как узнал, что на помощь осажденной крепости спешит специально посланная для этого из Тироля 30-тысячная австрийская армия под начальством очень дельного и талантливого генерала Вурмзера. Эта весть необычайно ободрила всех врагов французского нашествия. А ведь за эту весну и лето 1796 г. к католическому духовенству и североитальянскому полуфеодальному дворянству, ненавидевшим самые принципы буржуазной революции, которые несла с собой в Италию французская армия, прибавились многие и многие тысячи крестьян и горожан, жестоко пострадавших от грабежей, чинимых армией генерала Бонапарта. Разгромленный и принужденный к миру Пьемонт мог возмутиться в тылу у Бонапарта и перерезать его сообщения с Францией.
16 тысяч человек Бонапарт предназначил на осаду Мантуи, 29 тысяч у него были в резерве. Он ждал подкрепления из Франции. Навстречу Вурмзеру он послал одного из лучших своих генералов - Массена. Но Вурмзер отбросил его. Бонапарт отрядил другого, тоже очень способного своего помощника, который еще до него был уже в генеральских чинах, - Ожеро. Но и Ожеро был отброшен Вурмзером. Положение становилось отчаянным для французов, и тут Бонапарт совершил свой маневр, который, по мнению и старых теоретиков и более новых, мог бы сам по себе обеспечить ему «бессмертную славу» (выражение Жомини), даже если бы тогда, в самом начале своего жизненного пути, он был убит.
Вурмзер уже торжествовал близкую победу над страшным врагом, уже вошел в осажденную Мантую, сняв с нее, таким образом, осаду, как вдруг он узнал, что Бонапарт со всеми силами бросился на другую колонну австрийцев, действовавших на сообщениях Бонапарта с Миланом, и в трех битвах их разбил. Это были сражения при Лонато, Сало и Брешии. Вурмзер, узнав об этом, вышел из Мантуи со всеми своими силами и, разбив заслон, поставленный против него французами под начальством Валлета, отбросив в ряде стычек еще и другие французские отряды, наконец 5 августа встретился под Кастильоне с самим Бонапартом и потерпел тяжкое поражение благодаря блестящему маневру, в результате которого часть французских войск вышла в тыл австрийцам.
После ряда новых сражений Вурмзер с остатками разбитой армии сначала кружил у верхнего течения Адидже, потом заперся в Мантуе. Бонапарт возобновил осаду. На выручку уже на этот раз не только Мантуи, но и самого Вурмзера в Австрии была снаряжена в спешном порядке новая армия, под начальством Альвинци, тоже (подобно Вурмзеру, эрцгерцогу Карлу и Меласу) одного из лучших генералов Австрийской империи. Бонапарт пошел навстречу Альвинци, имея 28 500 человек, оставив 8300 человек осаждать Мантую. Резервов у него почти не было, их не насчитывалось и 4 тысяч. «Генерал, который очень уж исключительно заботится перед сражением о резервах, непременно будет разбит», - это на все лады повторял всегда Наполеон, хотя он был, конечно, далек от отрицания огромного значения резервов в длительной войне. Армия Альвинци была значительно больше. Альвинци отбросил несколько французских отрядов в ряде стычек. Бонапарт велел эвакуировать Виченцу и еще несколько пунктов. Он сосредоточил около себя все свои силы, готовясь к решающему удару.
15 ноября 1796 г. начался, а вечером 17 ноября окончился упорный и кровопролитный бой при Арколе. Альвинци, наконец, столкнулся с Бонапартом. Австрийцев было больше, и сражались они с чрезвычайной стойкостью - тут были отборные полки Габсбургской монархии. Одним из самых важных пунктов был знаменитый Аркольский мост. Трижды французы бросались на штурм и брали мост и трижды с тяжкими потерями отбрасывались оттуда австрийцами. Главнокомандующий Бонапарт повторил в точности то, что он сделал за несколько месяцев до того при взятии моста в Лоди: он бросился лично вперед со знаменем в руках. Около него было перебито несколько солдат и адъютантов. Бой длился трое суток с небольшими перерывами. Альвинци был разбит и отброшен.
Больше полутора месяцев после Арколе австрийцы оправлялись и готовились к реваншу. В середине января 1797 г. наступила развязка. В трехдневной кровопролитной битве при Риволи 14 и 15 января 1797 г. генерал Бонапарт наголову разбил всю австрийскую армию, на этот раз тоже собранную, уже в подражание молодому французскому полководцу, в один кулак. Спасшись с остатками разбитой армии, Альвинци уже не смел и помыслить о спасении Мантуи и запертой в Мантуе армии укрывавшегося там Вурмзера. Через две с половиной недели после битвы при Риволи Мантуя капитулировала. Бонапарт обошелся при этом весьма милостиво с побежденным Вурмзером.
После взятия Мантуи Бонапарт двинулся на север, явно угрожая уже наследственным габсбургским владениям. Когда спешно вызванный на итальянский театр военных действий в начале весны 1797 г. эрцгерцог Карл был разбит Бонапартом в целом ряде сражений и отброшен к Бреннеру, куда отступил с тяжкими потерями, в Вене распространилась паника. Она шла из императорского дворца. В Вене стало известно, что спешно запаковывают и куда-то прячут и увозят коронные драгоценности. Австрийской столице угрожало нашествие французов. Ганнибал у ворот! Бонапарт в Тироле! Бонапарт завтра будет в Вене! Такого рода слухи, разговоры, возгласы остались в памяти современников, переживавших этот момент в старой богатой столице Габсбургской монархии. Гибель нескольких лучших австрийских армий, страшные поражения самых талантливых и способных генералов, потеря всей северной Италии, прямая угроза столице Австрии - таковы были тогда итоги этой годовой кампании, начавшейся в конце марта 1796 г., когда Бонапарт впервые вступил в главное командование французами. В Европе гремело его имя.
После новых поражений и общего отступления армии эрцгерцога Карла австрийский двор понял опасность продолжения борьбы. В начале апреля 1797 г. генерал Бонапарт получил официальное уведомление, что австрийский император Франц просит начать мирные переговоры. Бонапарт, следует заметить, сделал от себя все зависящее, чтобы окончить войну с австрийцами в такой благоприятный для себя момент, и, наседая со всей своей армией на поспешно от него отступающего эрцгерцога Карла, он в то же время извещал Карла о своей готовности к миру. Известно любопытное письмо, в котором, щадя самолюбие побежденных, Бонапарт писал, что если ему удастся заключить мир, то этим он будет гордиться более, «чем печальной славой, которая может быть добыта военными успехами». «Разве не достаточно убили мы народа и причинили зла бедному человечеству?» - писал он Карлу.
Директория согласилась на мир и только раздумывала, кого послать для ведения переговоров. Но пока она размышляла об этом и пока ее избранник (Карл) ехал в лагерь Бонапарта, победоносный генерал уже успел заключить перемирие в Леобене.
Но еще до начала леобенских переговоров Бонапарт покончил с Римом. Папа Пий VI, враг и непримиримый ненавистник Французской революции, смотрел на «генерала Вандемьера», ставшего главнокомандующим именно в награду за истребление 13 вандемьера благочестивых роялистов, как на исчадие ада и всячески помогал Австрии в ее трудной борьбе. Как только Вурмзер сдал французам Мантую с 13 тысячами гарнизона и с несколькими сотнями орудий и у Бонапарта освободились войска, прежде занятые осадой, - французский полководец отправился в экспедицию против папских владений.
Папские войска были разгромлены Бонапартом в первой же битве. Они бежали от французов с такой быстротой, что посланный Бонапартом в погоню за ними Жюно не мог их догнать в продолжение двух часов, но, догнав, часть изрубил, часть же взял в плен. Затем город за городом стали сдаваться Бонапарту без сопротивления. Он брал все ценности, какие только находил в этих городах: деньги, бриллианты, картины, драгоценную утварь. И города, и монастыри, и сокровищницы старых церквей предоставили победителю громадную добычу и здесь, как и на севере Италии. Рим был охвачен паникой, началось повальное бегство состоятельных людей и высшего духовенства в Неаполь.
Папа Пий VI, охваченный ужасом, написал Бонапарту умоляющее письмо и отправил с этим письмом кардинала Маттеи, своего племянника, и с ним делегацию просить мира. Генерал Бонапарт отнесся к просьбе снисходительно, хотя сразу же дал понять, что речь идет о полной капитуляции. 19 февраля 1797 г. уже был подписан мир с папой в Толентино. Папа уступал очень значительную и самую богатую часть своих владений, уплачивал 30 миллионов франков золотом, отдавая лучшие картины и статуи своих музеев. Эти картины и статуи из Рима, так же как еще раньше из Милана, Болоньи, Модены, Пармы, Пьяченцы, а позже из Венеции, были отправлены Бонапартом в Париж. Перепуганный до последней степени папа Пий VI моментально согласился на все условия. Сделать это ему было тем легче, что Бонапарт в его согласии нисколько и не нуждался.
Почему Наполеон уже тогда не сделал того, что он совершил несколько лет спустя? Почему он не занял Рим, не арестовал папу? Это объясняется, во-первых, тем, что еще предстояли мирные переговоры с Австрией, а слишком крутой поступок с папой мог взволновать католическое население центральной и южной Италии и создать этим для Бонапарта необеспеченный тыл. А, во-вторых, мы знаем, что за время этой блестящей первой итальянской войны с ее непрерывными победами над большими, могущественными армиями грозной тогда Австрийской империи у молодого генерала была одна такая бессонная ночь, которую он всю прошагал перед своей палаткой, впервые задавая себе вопрос, который раньше не приходил ему в голову: неужели всегда ему и впредь придется побеждать и завоевывать новые страны для Директории, «для этих адвокатов»?
Много лет должно было пройти и много воды и крови должно было утечь, пока Бонапарт рассказал об этом своем уединенном ночном размышлении. Но ответ на этот заданный себе тогда вопрос он, конечно, дал вполне отрицательный. И в 1797 г. 28-летний завоеватель Италии уже видел в Пие VI не запуганного, трепещущего хилого старика, с которым можно было сделать, что угодно: Пий VI был для Наполеона духовным повелителем многих миллионов людей в самой Франции, и всякий, кто думает об утверждении своей власти над этими миллионами, должен считаться с их суевериями. Наполеон на церковь в точном смысле этого слова смотрел как на удобное полицейско-духовное орудие, помогающее управлять народными массами; в частности католическая церковь, с его точки зрения, была бы особенно удобна в этом отношении, но, к сожалению, она всегда претендовала и продолжает претендовать на самостоятельное политическое значение, и все это в значительной степени оттого, что она обладает законченной и совершенной, стройной организацией и повинуется как верховному владыке папе.
Что касается именно папства, то к нему Наполеон относился как к выработавшемуся исторически и укрепившемуся почти двумя тысячелетиями чистейшему шарлатанству, которое выдумали в свое время римские епископы, ловко воспользовавшись благоприятными для них местными и историческими условиями средневековой жизни. Но, что и такое шарлатанство может быть серьезнейшей политической силой, это он понимал очень хорошо.
Смирившийся, потерявший лучшие свои земли, трепещущий папа уцелел пока в Ватиканском дворце. Наполеон не вошел в Рим; он поспешил, покончив дело с Пием VI. обратно в северную Италию, где нужно было заключить мир с побежденной Австрией.
Прежде всего нужно сказать, что и леобенское перемирие, и последовавший затем Кампо-Формийский мир, и все вообще дипломатические переговоры Бонапарт вел всегда по собственному своему произволению и вырабатывал условия тоже ни с чем, кроме своих соображений, не считаясь. Как это стало возможным? Почему это сходило ему с рук? Здесь прежде всего действовало старинное правило: «победителей не судят». Республиканских генералов (самых лучших, вроде Моро) австрийцы как раз в этом же 1796 году и в начале 1797 г. били на Рейне, а рейнская армия требовала и требовала денег на свое содержание, хотя с самого начала была хорошо экипирована. Бонапарт же с ордой недисциплинированных оборванцев, которую он превратил в грозное и преданное войско, ничего не требовал, а, напротив, посылал в Париж миллионы золотой монетой, произведения искусства, завоевал Италию, в бесчисленных боях уничтожая одну австрийскую армию за другой, принудил Австрию просить мира. Битва при Риволи и взятие Мантуи, завоевание папских владений - последние подвиги Бонапарта окончательно сделали непререкаемым его авторитет.
Леобен - это город в Штирии, австрийской провинции, которая в этой своей части находится в каких-нибудь 250 километрах от подступов к Вене. Но чтобы окончательно и формально утвердить за собой все желаемое в Италии, т. е. все уже завоеванное и все, что еще захочется подчинить своей власти на юге, и вместе с тем чтобы заставить австрийцев пойти на серьезные жертвы на далеком от Бонапарта западногерманском театре военных действий, где французам очень не везло, - необходимо было все-таки дать Австрии хоть какую-нибудь компенсацию. Бонапарт знал, что хотя его авангард и стоит уже в Леобене, но что доведенная до крайности Австрия будет яростно защищаться и что пора кончать. Где же взять эту компенсацию? В Венеции. Правда, Венецианская республика была вполне нейтральна и делала все, чтобы не дать никакого повода к нашествию, но Бонапарт решительно никогда не затруднялся в таких случаях. Придравшись к первому же попавшемуся поводу, он послал туда дивизию. Еще раньше этой посылки он в Леобене заключил с Австрией перемирие именно на таких основаниях: австрийцы отдавали французам берега Рейна и все свои итальянские владения, занятые Бонапартом, а взамен им была обещана Венеция.
Собственно, Бонапарт решил разделить Венецию: город на лагунах отходил к Австрии, а материковые владения Венеции - к той «Цизальпийской республике», которую завоеватель решил создать из главной массы занятых им итальянских земель. Конечно, эта новая «республика» являлась отныне фактически владением Франции. Оставалась небольшая формальность: объявить венецианскому дожу и сенату, что их государство, бывшее самостоятельным с момента своего основания, т. е. с середины V в., перестало существовать, так как это понадобилось генералу Бонапарту для успешного завершения его дипломатических комбинаций. Он даже и свое собственное правительство, Директорию, уведомил о том, что собирается сделать с Венецией, лишь когда уже начал приводить в исполнение свое намерение. «Я не могу вас принять, с вас каплет французская кровь», - написал он венецианскому дожу, умолявшему о пощаде. Тут имелось в виду, что на рейде в Лидо был кем-то убит один французский капитан. Но даже и предлога не требовалось, все было ясно. Бонапарт приказал генералу Барагэ д'Илье занять Венецию. В июне 1797 г. все было кончено: после 13 столетий богатейшая событиями самостоятельной исторической жизни купеческая республика прекратила свое существование.
Итак, в руках Бонапарта оказался тот богатый объект для дележа, которого только и недоставало для окончательного и выгоднейшего замирения с австрийцами. Но случилось так, что завоевание Венеции сослужило Бонапарту и еще одну, совсем уже неожиданную, службу.
В один майский вечер 1797 г. к главнокомандующему французской армией, генералу Бонапарту, находившемуся тогда в Милане, прибыла экстренная эстафета от подчиненного ему генерала Бернадотта из Триеста, уже занятого, по приказу Бонапарта, французами. Примчавшийся курьер передал Бонапарту портфель, а донесение Бернадотта объясняло происхождение этого портфеля. Оказывалось, что портфель взят у некоего графа д'Антрэга, роялиста и агента Бурбонов, который, спасаясь от французов, бежал из Венеции в Триест, но тут и попал в руки уже вошедшего в город Бернадотта. В этом-то портфеле и оказались поразительные документы. Чтобы понять все значение этой неожиданной находки, нужно хоть в нескольких словах напомнить о том, что в тот момент творилось в Париже.
Те слои крупнейшей финансовой, торговой буржуазии и землевладельческой аристократии, которые были как бы «питательной средой» вандемьерского восстания в 1795 г., вовсе не были и не могли быть разгромлены пушками Бонапарта. Разгромлена была лишь их боевая верхушка, руководящие элементы секций, выступавшие в этот день рука об руку с активными роялистами. Но эта часть буржуазии не переставала и после вандемьера находиться в глухой оппозиции к Директории.
Когда весной 1796 г. был раскрыт заговор Бабефа, когда призрак нового пролетарского выступления, нового прериаля, начал вновь жестоко тревожить собственнические массы в городе и в деревне, то побежденные в вандемьере роялисты снова приободрились и подняли голову. Но они снова ошиблись, как ошиблись в 1795 г., летом на Кибероне и в вандемьере в Париже; они снова не учли, что хотя массы новых землевладельцев желают в защиту своей собственности создания сильной полицейской власти, хотя новая разбогатевшая на распродаже национального имущества буржуазия готова принять монархию, даже монархическую диктатуру, но возвращение Бурбона поддержит, может быть, лишь ничтожнейшая доля крупнейшей буржуазии города и деревни, потому что Бурбон всегда будет дворянским королем, а не буржуазным, и с ним вернутся феодализм и эмиграция, которая потребует обратно свои земли.
И все-таки, так как роялисты были из всех контрреволюционных группировок лучше всех организованы, сплочены, снабжены активной помощью и средствами из-за границы, имели на своей стороне духовенство, они и на этот раз взяли в свои руки руководящую роль в подготовке низвержения Директории весной и летом 1797 г. Это и должно было в конечном счете погубить и на этот раз возглавляемое ими движение. Дело в том, что всякий раз частичные выборы в Совет пятисот давали ясный перевес правым, реакционным, иногда даже явственно роялистским элементам. Даже в самой Директории, находившейся под угрозой контрреволюции, были колебания. Бартелеми и Карно были против решительных мер, а Бартелеми и вообще тайно сочувствовал многому в поднимающемся движении. Остальные три директора - Баррас, Ребель, Ларевельер-Лепо - постоянно совещались, но не решались ничего предпринять, чтобы предупредить готовящийся удар.
Одним из обстоятельств, которые очень тревожили Барраса и его двух товарищей, не желавших без борьбы отдавать свою власть, а может быть, и жизнь и решившихся бороться всеми мерами, было то, что генерал Пишегрю, прославленный завоеванием Голландии в 1795 г., оказался в лагере оппозиции. Он был избран президентом Совета пятисот, главой высшей законодательной власти в государстве, и его предназначали в верховные руководители готовящегося нападения на республиканских «триумвиров» - так называли трех директоров (Барраса, Ларевельер-Лепо и Ребеля).
Таково было положение вещей летом 1797 г. Бонапарт, воюя в Италии, зорко следил за тем, что делается в Париже. Он видел, что республике грозит явная опасность. Сам Бонапарт республику не любил и вскоре республику задушил, но он вовсе не намерен был допустить эту операцию преждевременно, а самое главное, вовсе не желал, чтобы это пошло на пользу кому-либо другому. В бессонную итальянскую ночь он уже ответил себе, что не всегда ему суждено побеждать только в пользу «этих адвокатов». Но еще меньше он хотел побеждать в пользу Бурбона. Его тоже, как и директоров, беспокоило, что во главе врагов республики стоит один из популярных генералов - Пишегрю. Это имя могло в решающий миг сбить с толку солдат. Они могли пойти за Пишегрю именно потому, что верили в его искренний республиканизм, и могли не понять, куда он их ведет.
Теперь уже без труда можно представить себе, что должен был почувствовать Бонапарт, когда ему прислали из Триеста с такой поспешностью толстый портфель, отобранный у арестованного графа д'Антрэга, и когда в этом портфеле он нашел непререкаемые доказательства измены Пишегрю, тайных его переговоров с агентом принца Конде, Фош-Борелем, прямые свидетельства о давнем его предательском поведении относительно республики, которой он служил. Только одна маленькая неприятность несколько замедлила отправку этих бумаг прямо в Париж, к Баррасу. Дело в том, что в одной из бумаг (и притом в самой важной для обвинения Пишегрю) другой агент Бурбонов, Монгайар, между прочим рассказывал, что он побывают в Италии у Бонапарта в главной квартире армии и пытался с ним тоже вести переговоры. Хотя ничего больше и не было, кроме этих ничего не значащих строк, хотя Монгайар и мог под каким-нибудь предлогом действительно побывать под чужим именем у Бонапарта, но генерал Бонапарт решил, что лучше эти строки уничтожить, чтобы не ослаблять впечатления касательно Пишегрю. Он приказал доставить к себе д'Антрэга и предложил ему тут же переписать этот документ, выпустив нужные строки, и подписать его, грозя иначе расправиться с ним. Д'Антрэг мигом сделал все, что от него требовалось, и был спустя некоторое время выпущен (т. е. ему было устроено мнимое «бегство» из-под стражи). Документы вслед за тем были Бонапартом отправлены и доставлены Баррасу. Это развязало руки «триумвирам». Они не сразу опубликовали ужасающую бумагу, которую им доставил Бонапарт, но сначала подтянули особенно верные дивизии, затем подождали генерала Ожеро, которого спешно отрядил Бонапарт из Италии в Париж на помощь директорам. Кроме того, Бонапарт обещал прислать из вновь реквизированных в Италии денег 3 миллиона франков золотом для усиления средств Директории в предстоящий критический момент.
В 3 часа ночи 18 фрюктидора (4 сентября 1797 г.) Баррас приказал арестовать двух подозрительных по своей умеренности директоров; Бартелеми был схвачен, а Карно успел бежать. Начались массовые аресты роялистов, чистка Совета пятисот и Совета старейшин, за арестами последовала высылка их без суда в Гвиану (откуда не очень многие вернулись впоследствии), закрытие заподозренных в роялизме газет, массовые аресты в Париже и провинции. Уже на рассвете 18 фрюктидора всюду красовались огромные плакаты: это были напечатанные документы, подлинники которых, как сказано, прислал в свое время Бонапарт Баррасу. Пишегрю, председатель Совета пятисот, был схвачен и тоже увезен в Гвиану. Никакого сопротивления этот переворот 18 фрюктидора не встретил. Плебейские массы ненавидели, роялизм еще больше, чем Директорию, и открыто радовались удару, сокрушившему надолго старых приверженцев династии Бурбонов. А «богатые секции» на этот раз на улицу не вышли, хорошо помня страшный вандемьерский урок, который преподал им в 1795 г. при помощи артиллерии генерал Бонапарт.
Директория победила, республика была спасена, и победоносный генерал Бонапарт из своего далекого итальянского лагеря горячо поздравляют Директорию (которую он уничтожил спустя два года) со спасением республики (которую он уничтожит спустя семь лет).
Бонапарт был доволен событием 18 фрюктидора еще и в другом отношении. Леобенское перемирие, заключенное с австрийцами еще в мае 1797 г., так и оставалось перемирием. Австрийское правительство вдруг стало летом обнаруживать признаки бодрости и почти грозить, и Бонапарт прекрасно знал, в чем тут дело; Австрия, как и вся монархическая Европа, затаив дыхание, следила за тем, что разыгрывалось в Париже. В Италии ждали со дня на день свержения Директории и республики, возвращения Бурбонов и ликвидации поэтому всех французских завоеваний. 18 фрюктидора с разгромом роялистов, с публичным изобличением измены Пишегрю положило конец всем этим мечтаниям.
Генерал Бонапарт стал резко настаивать на скорейшем подписании мира. Из Австрии был послан для переговоров с Бонапартом искусный дипломат Кобенцль. Но тут коса нашла на камень. Кобенцль во время долгих и трудных переговоров жаловался своему правительству, что редко можно встретить «такого сутягу и такого бессовестного человека», как генерал Бонапарт. Здесь еще больше, чем когда-либо, обнаружились дипломатические способности Бонапарта, по мнению многих источников той эпохи, не уступавшие его военному гению. Только раз он поддался одному из тех припадков ярости, которые впоследствии, когда он уже чувствовал себя владыкой Европы, овладевали им часто, но теперь пока еще были внове. «Ваша империя - это старая распутница, которая привыкла, чтобы все ее насиловали... Вы забываете, что Франция победила, а вы побеждены... Вы забываете, что вы тут со мной ведете переговоры, окруженные моими гренадерами...» - бешено кричал Бонапарт. Он швырнул об пол столик, на котором стоял привезенный Кобенцлем драгоценный фарфоровый кофейный сервиз, подарок австрийскому дипломату от русской императрицы Екатерины. Сервиз разбился вдребезги. «Он вел себя, как сумасшедший», - доносил об этом Кобенцль. 17 октября 1797 г. в местечке Кампо-Формио был подписан наконец мир между Французской республикой и Австрийской империей.
Почти все то, на чем настаивал Бонапарт и в Италии, где он побеждал, и в Германии, где австрийцы вовсе не были еще побеждены французскими генералами, было им достигнуто. Венеция, как и желал Бонапарт, послужила компенсацией Австрии за эти уступки на Рейне.
Бурным ликованием встретили в Париже весть о мире. Страна ждала торгового и промышленного оживления. Имя гениального военного вождя было у всех на устах. Все понимали, что война, проигранная прочими генералами на Рейне, была выиграна одним Бонапартом в Италии и что этим был спасен также и Рейн. Официальным, официозным и совсем частным печатным и устным восхвалениям победоносного генерала, завоевателя Италии, не было конца. «О, могущественный дух свободы! Ты один мог породить... итальянскую армию, породить Бонапарта! Счастливая Франция!» - восклицал в своей речи один из директоров республики, Ларевельер-Лепо.
Между тем Бонапарт наскоро заканчивал организацию новой вассальной Цизальпинской республики, куда включил часть завоеванных им земель (прежде всего Ломбардию) Другая часть его завоеваний была непосредственно присоединена к Франции. Наконец, третья часть (вроде Рима) оставлена была до поры до времени в руках прежних государей, но с фактическим подчинением их Франции. Бонапарт организовал эту Цизальпинскую республику так, что при видимости существования совещательного собрания представителей из состоятельных слоев населения вся фактическая сила должна была находиться в руках французской оккупационной военной власти и присланного из Парижа комиссара. Ко всей традиционной фразеологии об освобождении народов, о братских республиках и т д. он относился с самым откровенным презрением. Он ничуть не верил тому, что в Италии есть хоть сколько-нибудь значительное число людей, которые были бы охвачены тем энтузиазмом к свободе, о котором он сам говорил в своих воззваниях к населению завоевываемых им стран.
Распространялась по Европе официальная версия о том, как великий итальянский народ сбрасывает долгое иго суеверий и притеснений и несметной массой берется за оружие, чтобы помогать освободителям-французам, а на деле вот что - не для публики, а для Директории сообщал доверительно Бонапарт: «Вы воображаете себе, что свобода подвинет на великие дела дряблый, суеверный, трусливый, увертливый народ... В моей армии нет ни одного итальянца, кроме полутора тысяч шалопаев, подобранных на улицах, которые грабят и ни на что не годятся...» И дальше он говорит, что только с умением и при помощи «суровых примеров» можно держать Италию в руках. А итальянцы уже имели случай узнать, что именно он понимает под суровыми мерами. Он жестоко расправился с жителями г. Бинаско, с г. Павией, с некоторыми деревнями, около которых были найдены убитыми отдельные французы.
Во всех этих случаях действовала вполне планомерная политика Наполеона, которой он держался всегда: ни одной бесцельной жестокости и совсем беспощадный массовый террор, если это ему было нужно для подчинения завоеванной страны. Он уничтожил в завоеванной Италии всякие следы феодальных прав, где они были, он лишил церковь и монастыри права на некоторые поборы, он успел за те полтора года (с весны 1796 до поздней осени 1797 г.), которые он провел в Италии, ввести кое-какие законоположения, которые должны были приблизить социально-юридический строй жизни северной Италии к тому, который успела выработать буржуазия во Франции. Зато он тщательно и аккуратно эксплуатировал все итальянские земли, где только побывал, много миллионов золотом он отправил Директории в Париж, а вслед за этим и сотни лучших творений искусства из итальянских музеев и картинных галерей. Не забыл он и лично себя и своих генералов: они вернулись из похода богатыми людьми. Однако, подвергая Италию такой беспощадной эксплуатации, он понимал, что как ни трусливы (по его мнению) итальянцы, но что очень любить французов (армию которых они же и содержали из своих средств) им не за что и что даже их долготерпению может наступить внезапный конец. Значит, угроза военным террором - главное, что может на них действовать в желательном для завоевателя духе.
Ему еще не хотелось покидать завоеванную страну, но Директория ласково, однако очень настойчиво звала его после Кампо-Формио в Париж. Директория назначила его теперь главнокомандующим армии, которая должна была действовать против Англии. Бонапарт уже давно почуял, что Директория начала его побаиваться. «Они завидуют мне, я это знаю, хоть они и курят фимиамом под моим носом; но они меня не одурачат. Они поспешили назначить меня генералом армии против Англии, чтобы убрать меня из Италии, где я больше государь, чем генерал», - так оценивал он свое назначение в доверительных беседах.
7 декабря 1797 г. он прибыл в Париж, а 10 декабря был триумфально встречен Директорией в полном составе в Люксембургском дворце. Несметная толпа народа собралась у дворца, самые бурные крики и рукоплескания приветствовали Наполеона, когда он прибыл к дворцу. Речи, которыми встретили его Баррас, первенствующий член Директории, и другие члены Директории, и лукавый, дальше всех проникающий мыслью в будущее, умный и продажный министр иностранных дел Талейран, и остальные сановники, восторженные славословия толпы на площади - все это принималось 28-летним генералом с полным наружным спокойствием, как нечто должное и нисколько его не удивляющее. В душе он никогда особой цены восторгам народных толп не придавал: «Народ с такой же поспешностью бежал бы вокруг меня, если бы меня вели на эшафот», - сказал он после этих оваций (конечно, не во всеуслышание).
Едва приехав в Париж, Бонапарт принялся проводить через Директорию проект новой большой войны: в качестве генерала, назначенного действовать против Англии, он решил, что есть место, откуда можно грозить англичанам более успешно, чем на Ла-Манше, где их флот сильнее французского. Он предложил завоевать Египет и создать на Востоке подступы и плацдармы для дальнейшей угрозы английскому владычеству в Индии.
Не сошел ли он с ума? - спрашивали себя в Европе многие, когда уже летом 1798 г. узнали о совершившемся, потому что строжайшая тайна окружала до той поры новый план Бонапарта и обсуждение этого плана весной 1798 г. в заседаниях Директории.
Но то, что казалось издали обывательскому уму фантастической авантюрой, на самом деле тесно связывалось с определенными и стародавними устремлениями не только революционной, но и дореволюционной французской буржуазии. План Бонапарта оказался приемлемым.