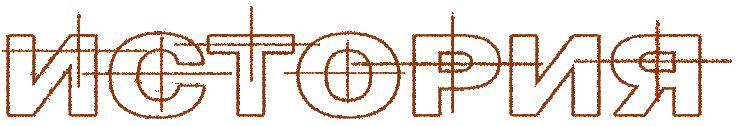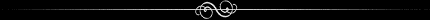Наши проекты
Обсуждения
Реклама
Владимир Святой в западноевропейских источниках
| Выше уже встречалось имя миссийного архиепископа Бруно (в монашестве Бонифация) Кверфуртского. Бруно-Бонифаций происходил из семейства графов Кверфуртских (Querfurt — город в Тюрингии) и был личностью во многих отношениях незаурядной. В 997 г. он стал капелланом юного императора Оттона III (983—1002 гг.), который называл его «своей душой». Убежденный сторонник универсалистских имперских идей полугрека Оттона III, Бруно так и не смог найти себе место в рамках новой внешней политики Генриха II (1002—1024 гг.), стержнем которой стало противоборство с Польшей Болеслава Храброго (992—1025 гг.). Почти непрерывная немецко-польская война разрушила планы Бруно создать и возглавить миссионерский центр на территории Польши, он пустился в стихийное миссионерство в самых опасных местах — среди «черных венгров» (Трансильвания), печенегов, пруссов; во время миссии к пруссам в 1009 г. он и погиб — согласно «Кведлинбургским анналам», где-то «на пограничье Руси и Литвы» (Rusciae et Lituae) (Ann. Quedl., a. 1009. P. 80), т.е., вероятно, в земле ятвягов (это, кстати говоря, первое упоминание этнонима литва, тогда еще практически неизвестного и малопонятного, судя по тому, что Титмар Мерзебургский, используя сообщение «Кведлинбургских анналов», слова «и Литвы» опустил (Thietm. VI, 95. Р. 344). Бруно был не только страстным миссионером, но и писателем. Его перу принадлежат агиографические сочинения (в том числе «Житие св. Адальберта-Войтеха, епископа Пражского», также погибшего во время миссии к печенегам в 997 г., кумира Бруно) и интересующее нас здесь послание к германскому королю Генриху II.
Послание служило своего рода оправданием перед королем за дружбу Бруно с польским князем Болеславом I (с помощью которого — если не по его поручению — миссионер и отправился к пруссам), но и обвинением Генриху за то, что в союзе с язычниками лютичами он воюет против христианина Болеслава: «Что общего между Христом и Велиалом?» — грозно вопрошает Бруно; здесь автор упоминает, между прочим, славянское языческое божество Сварожича (Zuarasiz), имя которого встречается и в древнерусских текстах. В то же время послание — как бы отчет Бруно в своей миссионерской деятельности. Поэтому упоминается в нем и о миссии к печенегам, и о посещении, по пути к ним, Киева. Написано послание из Польши, вероятно, осенью 1008 г.; к тому же году относится и пребывание миссионера на Руси. Послание дважды переводилось на русский язык в прошлом веке, но ни один из переводов не может быть признан вполне удовлетворительным, а комментарии в этих изданиях к настоящему времени совершенно устарели. Приводим «русский фрагмент» в нашем переводе. «Верно, уж целый год исполнился месяцами и днями (язык Бруно не чужд литературных красот) с тех пор, как мы покинули венгров, где понапрасну провели много времени, и направились к печенегам (Pezenegi), жесточайшим из всех язычников. Государь Руси (senior Ruzorum), великий державой (regnum) и богатствами, в течение месяца удерживал меня против [моей] воли, как будто я по собственному почину хотел погубить себя, и постоянно убеждал меня не ходить к столь безумному народу, где, по его словам, я не обрел бы новых душ, но одну только смерть, да и то постыднейшую. Когда же он не в силах был уже [удерживать меня долее] и устрашен неким обо мне, недостойном, видением, то с дружиной два дня провожал меня до крайних пределов своей державы, которые из-за вражды с кочевниками со всех сторон обнес крепчайшей и длиннейшей оградой. Спрыгнув с коня на землю!, Он последовал за мною, шедшим впереди с товарищами, и вместе со своими боярами (maiores) вышел за ворота. Он стоял на одном холме, мы — на другом. Обняв крест, который нес в руках, я возгласил честной гимн: "Петре, любишь ли меня? Паси агнцы моя!" (Ср. Иоанн 21, 15—17). По окончании респонсория (род церковного песнопения) государь прислал к нам [одного из] бояр с такими словами: "Я проводил тебя [до места], где кончается моя земля и начинается вражеская; именем Господа прошу тебя, не губи к моему позору своей молодой жизни (Бруно было тогда около тридцати лет), ибо знаю, что завтра до третьего часа суждено тебе без пользы, без вины вкусить горечь смерти" (это и было страшным видением Владимиру о Бруно?). Я отвечал: "Пусть Господь откроет тебе [врата] Рая так же, как ты открыл нам путь к язычникам!" Что же? Два дня мы шли беспрепятственно, на третий, в пятницу, трижды — утром, в полдень и в девятом часу — все мы со склоненными выями влекомы были на казнь, но столько же раз по чудесному знамению — такова была воля Господа и водителя нашего [святого] Петра — невредимы ускользали от встречавшихся нам врагов. В воскресенье, когда мы добрались до мест, более обитаемых, нас оставили в живых до срока, пока весь народ по зову гонцов не соберется на сходку. Итак, в девятом часу следующего воскресного дня нас зовут на сходку, бичуя, словно лошадей. Сбежалась бесчисленная толпа; с налитыми кровью глазами, они подняли страшный крик; тысячи обнаженных мечей и тысячи топоров, [занесенных] над нашими головами, грозили изрубить нас в куски. До ночи терзали нас, волоча в разные стороны, пока нас не вырвали из их рук старейшины (maiores) [той] земли, которые, будучи рассудительны, услыхав наши речи, поняли, что мы с добром явились в их землю. Как то было угодно неисповедимому Господу и честнейшему Петру, пять месяцев провели мы среди этого народа, обойдя три его части, не заходя в четвертую, из которой к нам прибыли послы от старейшин (raeliores). Обратив в христианство примерно тридцать душ, мы, по мановению Божию, устроили мир (с Русью), который, по их словам, никто кроме нас не смог бы устроить. "Сей мир, — говорили они, — тобою устроен. Если он будет прочен, то все мы, как ты учишь, охотно станем христианами; если же государь Руси изменит уговору, нам придется думать только о войне, а не о христианстве". С тем я и прибыл к государю Руси, который ради [успеха] Божьего [дела] одобрил это, отдав в заложники сына. Мы же посвятили в епископы [одного] из наших, которого затем государь вместе с сыном поместил в середине земли [печенегов]. И установился, к вящей славе Господа, Спасителя [нашего], христианский закон среди наихудших и жесточайших из всех обитающих на земле язычников» (Ер. Brun. P. 98-100). Казалось бы, приведенный рассказ не слишком информативен для историка. Но не забудем, что перед нами строки, написанные человеком, всего лишь два—три месяца назад лично и многократно встречавшимся с Владимиром Святым, — здесь дорога буквально каждая мелочь, даже то, как князь «спрыгивает» (а не «сходит» или «слезает») с коня. Но и в остальном текст Бруно говорит отнюдь не мало. О том, что «брань от печенег» сопровождала все княжение Владимира, можно было бы догадываться и по древнерусским источникам. Но, оказывается, в той постоянной войне были и паузы — довольно серьезные политические попытки примирения. На первый взгляд, печенежское епископство (о котором известно только со слов Бруно) не могло просуществовать сколько-нибудь долго, ведь в год смерти Владимира, в 1015 г., печенеги уже снова воевали на Руси. Но здесь от историка требуется известная аккуратность. В самом деле, Бруно говорит о «трех частях» печенежского народа и послах от четвертой. Речь идет, очевидно, о правобережных печенегах, так как о переправе через Днепр в послании ничего не сообщается. Эти данные хорошо согласуются с на полвека более ранними сведениями византийского императора и писателя Константина VII Багрянородного в его трактате «Об управлении империей» о четырех «округах» печенегов на левобережье Днепра и стольких же — на правобережье. Мир, заключенный Владимиром с правобережными печенегами, был, разумеется, вовсе необязателен для левобережных — а таковые тоже нападали на Русь (под 992 г. летопись сообщает: «Печенези приидоша по оной стороне, от Сулы», т.е. дело происходило на противоположном, по отношению к Киеву, левом берегу Днепра). Мы не знаем, откуда пришли печенеги в 1015 г., зато знаем, что Святополк, став в том же году киевским князем, наследовал союз с какими-то печенегами, которые сражались на его стороне в битвах против Ярослава Владимировича в 1016 и 1019 гг. (кстати, именно Святополка часто считают тем сыном Владимира, который был отдан в заложники печенегам, но это маловероятно: в заложники обычно отдавались малолетние сыновья, Святополку же в 1008 г. было тридцать лет и он уже имел собственный стол). Конечно, Святополковы печенеги могли быть теми же, которые нападали на Русь в 1013 г. вместе с поляками Болеслава I (об этом сообщает Титмар), но и тогда все непросто. Ведь связи Болеслава с печенегами, весьма вероятно — также результат посредничества Бруно. Что же, печенежское епископство стало политическим инструментом в руках Болеслава? Едва ли, поскольку выражение Бруно, что новопосвященного епископа «вместе с сыном поместил в середине земли» печенегов именно Владимир, вроде бы предполагает его (епископа) подчинение киевскому митрополиту. Кроме того, для рукоположения епископа по церковным канонам требовалось сослужение не менее трех архиереев (т.е. еще двух, помимо Бруно), которых Бруно мог найти, конечно, только на Руси. Чрезвычайно интересно уникальное известие Бруно о «крепчайшей и длиннейшей ограде» (sepes), которой Владимир из-за печенежской угрозы укрепил южные рубежи Руси. Летопись, правда, сообщает о строительстве Владимиром «городов» вдоль пограничных со степью рек — Десны, Сулы, Стугны, Трубежа, но у Бруно, несомненно, речь идет о сплошном укреплении — очевидно, частоколе на земляном валу, подобном тому, которым и свое время Римская империя отгораживалась от «варваров». Наконец, надо отметить и отношение миссионера к киевскому князю: он для Бруно не просто «великий державой и богатствами», а, совершенно очевидно, входит в круг тех образцовых правителей, которые, как и польский князь Болеслав, все делают «ради успеха Божьего дела», противостоя язычникам, а не вступая с ними в союзы против христиан, как германский король Генрих II. Никакой конфессиональной настороженности со стороны Бруно к Руси не чувствуется, хотя ни один древнерусский церковный иерарх им не упомянут (а встречаться с ними миссионеру заведомо случалось). Что это — черта имперски-экумоничной широты взглядов или следствие того, что Бруно был подчеркнуто лоялен к князю, к которому, видимо, имел дипломатические поручения от столь почитавшегося им Болеслава? Полагаем, вероятнее первое: Бруно ведь писал не к Болеславу, а к его оппоненту. Мерзебургский епископ Титмар был родственником и сверстником Бруно Кверфуртского, близко знал его, поскольку вместе с ним учился в школе при кафедральном соборе в Магдебурге. Благоговейный рассказ о ранних добродетелях будущего мученика, проявившихся уже в школьные годы, и сочувственное сообщение о гибели Бруно от рук язычников на границе Пруссии (Prucia) и Руси (Ruscia) Титмар включил в свою «Хронику». Но государственно- и церковно-политические взгляды этих двух земляков и современников были совершенно различны. В отличие от Бруно Титмар принадлежал к тем кругам восточносаксонской знати, которые выступали резко против умозрительной универсалистско-имперской концепции Оттона III, вылившейся в политику уступок напористому польскому князю Болеславу I Храброму, и были непримиримыми врагами последнего. Как нам предстоит убедиться, такая политическая позиция мерзебургского епископа и хрониста во многом сказалась и на том образе киевского князя Владимира Святославича, который довольно яркими красками он очертил в своей «Хронике» и который заметно разнится от того, что мы читаем о Владимире у Бруно. Владимиру посвящены три главы (72—74) в конце книги VII «Хроники» Титмара Мерзебургского. Как и последующее описание усобицы Владимировичей, эти уникальные сведения имеют первостепенное значение для историков Древней Руси — и не просто как детальное свидетельство современника событий (Титмар работал над хроникой в конце жизни, в 1012—1018 гг.). Дело еще и в том, что вторая половина правления Владимира (от завершения строительства Десятинной церкви в 996 г. и до смерти князя 15 июля 1015 г.) чрезвычайно скудно освещена древнерусскими источниками. Все, что известно об этом периоде из «Повести временных лет», исчерпывается, в сущности, несколькими краткими записями о кончине тех или иных представителей княжеского семейства. Сказанное, равно как и труднодоступность русского перевода соответствующих фрагментов (целиком хроника Титмара на русский язык никогда не переводилась; касающиеся Руси отрывки переводились и публиковались неоднократно, но эти переводы часто неточны и рассеяны по старым или редким изданиям), заставляет нас привести его здесь полностью. «VII, 72. Продолжу рассказ и коснусь несправедливости, содеянной королем Руси Владимиром (rex Ruscorum Wlodemirus). Он взял жену из Греции по имени Елена, ранее просватанную за Оттона III, но коварным образом у него восхищенную. По ее настоянию он (Владимир) принял святую христианскую веру, которую добрыми делами не украсил, ибо был великим и жестоким распутником и учинил большое насилие над изнеженными данайцами. Имея троих сыновей, он дал в жены одному из них дочь нашего притеснителя герцога (dux) Болеслава (польского князя Болеслава I), вместе с которой поляками был прислан Рейнберн, епископ колобжегский. (Далее следует описание деятельности Рейнберна до его прибытия на Русь, которое мы здесь опускаем). Упомянутый король, узнав, что его сын по наущению Болеславову намерен тайно против него выступить, схватил того [епископа] вместе с этим [своим сыном] и [его] женой и заключил каждого в отдельную темницу. В ней святой отец, прилежно восхваляя Господа, свершил втайне то, чего не мог открыто: по слезам его и усердной молитве, исторгнутой из кающегося сердца, [как] по причастии, отпущены были ему грехи Высшим Священником; [душа] его, вырвавшись из узилища тела, ликуя, перешла в свободу вечной славы. VII, 73. Имя названного короля несправедливо толкуют как «власть мира», ибо не тот вечно непостоянный мир зовется истинным, который царит меж нечестивыми и который дан детям сего века, но действительного мира вкусил лишь тот, кто, укротив в своей душе всякую страсть, снискал царствие небесное в награду за смирение, побеждающее невзгоды. Сей епископ, обретший в двоякой непорочности (телесной и духовной) прибежище на небесах, смеется над угрозами беззаконника, созерцая пламя возмездия, терзающее этого распутника, так как, по свидетельству учителя нашего Павла, Господь наказует прелюбодеев (Послание к евреям 13,4). Болеслав же, узнав обо всем этом, не переставал мстить, чем только мог. После этого названный король умер в преклонных летах, оставив все свое наследство двум сыновьям, тогда как третий до тех пор находился в темнице; впоследствии, сам ускользнув, но оставив там жену, он бежал к тестю. VII, 74. Упомянутый король носил венерин набедренник, усугублявший [его] врожденную склонность к блуду. Но Спаситель наш Христос, заповедав нам препоясывать чресла (Лука 12, 35), обильный источник губительных излишеств, разумел воздержание, а не какой-либо соблазн. Услыхав от своих проповедников о горящем светильнике (Лука 12, 35), названный король смыл пятно содеянного греха, усердно творя щедрые милостыни. Ибо написано: подавайте милостыню, тогда все будет у вас чисто (Лука 11,41). Он долго правил упомянутым королевством (regnum), умер глубоким стариком и похоронен в большом городе Киеве (Cuiewa) в церкви мученика Христова папы Климента рядом с упомянутой своей супругой — саркофаги их стоят посреди храма. Власть его делят между собой сыновья, и во всем подтверждается слово Христово, ибо, боюсь, последует то, чему предречено свершиться устами нелживыми — ведь сказано: всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет (Матфей 12,35; Марк 3,24; Лука 11,17) и проч. Пусть же молится весь христианский мир, дабы отвратил Господь от той страны [свой] приговор» (Thietm. P. 486—490). Как выяснилось, глава VII, 74 была записана позже двух предыдущих и опиралась на сведения, полученные от саксонских участников похода Болеслава Храброго на Киев летом 1018 г. Действительно, сообщение о том, что саркофаги Владимира и его византийской супруги стоят посредине Десятинной церкви (о захоронении князя именно в созданной им церкви Богородицы Десятинной известно и по древнерусским источникам), выдает присутствие очевидца. Более того, характерны даже имеющиеся кажущиеся неточности. Почему Десятинная церковь названа не ее настоящим именем, а церковью св. Климента? Это не ошибка. В Десятинной церкви покоились мощи св. Климента Римского, вывезенные Владимиром после своего крещения из Херсонеса, и поэтому киевляне, очевидно, называли главный храм тогдашнего Киева по его важнейшей святыне. Такое словоупотребление могло быть только просторечным — ни в одном другом источнике оно больше не засвидетельствовано. Следовательно, информант Титмара должен был побывать в Киеве, чтобы воспринять это народное наименование. В двух предыдущих главах тоже есть ошибки, но они совсем иного рода. Титмар верно считает жену Владимира гречанкой, но неверно называет ее имя — Елена вместо правильного Анна. Возмущенная интонация известия о браке киевского князя на византийской принцессе понятна: еще в 967 г. к ней, дочери покойного императора Романа II (или к ее старшей сестре, быть может, именем Елена), сватал своего сына Оттона, будущего императора Оттона II, германский император Оттон I, но получил категорический отказ византийского императора Никифора II Фоки. Это стало причиной войны между Германией и Византией на юге Италии, вылившейся в компромисс — Оттон I был вынужден удовлетвориться племянницей императора Иоанна I Цимисхия, преемника Никифора. В династическом отношении разница между Феофано и Анной (Еленой?) была огромна: первая была просто одной из родственниц правившего императора, вторая же являлась так называемой «порфирогенитой» — «багрянородной» (представительницей правившей Македонской династии, родившейся в «Багряной» палате царского дворца в период, когда ее отец был на императорском престоле). По византийским понятиям, брак «порфирогениты» с «варваром» — будь то с «франком» Оттоном II или со «скифом» Владимиром — был немыслим. Нарушение этой священной традиции в случае с Владимиром и Анной делало их супружество совершенно необычным для византийской матримониальной практики. Можно представить себе негодование, царившее при европейских дворах при известии о скандальном браке Анны с киевским князем в 989 г. [как раз тогда, в свою очередь, собирался попытать счастья французский король Гуго Капет (987—996 гг.), планируя сватовство к Анне своего сына Роберта]. Никто не хотел входить в положение византийского императора Василия II (сына Романа II), который был просто вынужден отдать сестру по требованию Владимира и в обмен на военную поддержку последнего: шеститысячный русский корпус спас Македонскую династию от узурпатора Варды Фоки в битве при Авидосе (под Константинополем) весной 989 г., а уже вскоре сам Владимир слал угрозы императору из-за стен поверженного византийского Херсонеса, требуя обещанной невесты. Таким образом, упрек Титмара Владимиру в «насилии над изнеженными данайцами» справедлив, но в остальном хронист просто воспроизводит старый обидный слух, уже почти анекдот, путая Оттона II с Оттоном III. Есть еще один интересный момент, выдающий различие источников информации Титмара в главах VII, 72—73, с одной стороны, и главе VII, 74 — с другой. И здесь, и там подчеркнуто женолюбие Владимира, но сделано это по-разному. В первых двух главах киевский князь предстает «великим и жестоким распутником», который, хотя и принял по настоянию жены христианство, однако «добрыми делами» его так и «не украсил»; за свое распутство князь терзаем адским «пламенем возмездия», а одним из его последних бесчинств незадолго до кончины стала, по Титмару, «несправедливость, содеянная» по отношению к несчастному епископу Рейнберну. В третьей же главе дело выглядит несколько иначе: да, Владимир имел «врожденную склонность к блуду» и даже, как можно понять Титмара, носил какойто «венерин набедренник» (lumbare venereum), пытаясь поначалу наивно или цинично объяснить это христианской заповедью «препоясывать чресла» (здесь хронист, кажется, снова передает слух — теперь уже местный, киевский, площадной), но в конце концов все-таки преобразился под воздействием речей «своих проповедников» и «смыл пятно содеянного греха, усердно творя щедрые милостыни». Такая картина значительно ближе к летописному образу Владимира Святославича: «Повесть временных лет» также подчеркивает, что князь «бе женолюбец, аки преже Соломан» (т.е. израильский царь Соломон) (ПВЛ. С. 37), но относит этот порок к языческому периоду его жизни, а главной чертой Владимира-христианина называет именно обильные милостыни или, говоря языком современности, — социальную благотворительность. Можно поэтому думать, что сведения, отразившиеся в главах VII, 72—73, происходят главным образом из польских источников (об этом говорит и форма имени Владимир у Титмара — Wlodemirus; ср. польск. Wlodzimierz), а в конечном итоге — из враждебного Владимиру окружения Святополка, находившегося в Польше начиная с зимы 1016—1017 гг., тогда как в главе VII, 74 хронист передал услышанное своим саксонским информантом непосредственно на улицах Киева и не скрывал своей симпатии к Руси, призывая молиться за ее спасение; от междоусобия. Уникально свидетельство Титмара о женитьбе одного из сыновей Владимира (из последующего выяснится, что это именно Святополк) на дочери польского князя Болеслава I [в польской «Хронике Анонима Галла» есть только неопределенное указание на какие-то родственные связи Святополка и Болеслава], в свите которой (видимо, в роли духовника княжны) на Русь и прибыл тогда уже безместный поморский епископ Рейнберн. О времени заключения брака, к сожалению, ничего не говорится. И здесь, увы, мало помогает само по себе ценное сообщение того же Титмара в главе VI, 91 о неизвестном по русским источникам походе Болеслава в союзе с печенегами на Русь в 1013 г.: польский князь «напал на Русь и разорил большую часть этой страны. Когда же между его [воинами] и пришлыми печенегами случился раздор, он приказал этих последних всех перебить, хотя они и были с ним заодно» (Thietm. VI, 91. Р. 389). Хочется думать, что поход 1013 г. и был той местью Болеслава за заключение в Киеве его дочери и зятя, о которой пишет Титмар в главе VII, 73. Тогда брак пришлось бы отнести ко времени до 1013 г. (иногда считают, что переговоры о браке вел в 1008 г. Бру но Кверфуртский во время своего пребывания в Киеве. Но в науке существует также мнение, что брак Святополка и Болеславны, напротив, следовал за походом 1013 г., скрепит русско-польский мир (впрочем, тогда остается не вполне ясной причина нападения Болеслава на Русь). Так или иначе, саксонский хронист снова приоткрывает перед нами суть происходившего на Руси в последние годы Владимирова княжения. По древнерусским источникам известно, с одной стороны, что Святополк в это время княжил в Турове, с другой — что в момент смерти Владимира он почему-то пребывал в Киеве (это и позволило ему занять киевский стол). Титмар объясняет такую странность: оказывается Святополк обвинялся в заговоре против киевского князя и находился в Киеве в заключении. Но тем самым он говорит и много больше того. «Повесть временных лет», не поясняя причин, сообщает под 1014 г., что и Ярослав Владимирович, имевший уделом Новгород, разорвал с отцом, отказавшись платить Киеву положенный годовой урок и 2000 гривен (ок. 100 кг серебра). Стало быть, в конце правления Владимира произошло что-то, что вызвало одновременное (или почти одновременное) возмущение обоих старших Владимировичей, т.е. потенциальных наследников киевского стола. Словам Титмара, будто Святополк действовал «по наущению Болеславову», нельзя придавать большого значения: хронист был яростным ненавистником польского князя и имел обыкновение во всем усматривать его козни; кроме того, такое объяснение не подходит для случая с Ярославом. Складывается впечатление, что правы те исследователи, которые подозревают Владимира в желании оставить после своей смерти Киев одному из младших сыновей — своему любимцу Борису. Кажется, их мнение подтверждает и Титмар в главе VII, 73, сообщая, что Владимир, держа в заточении Святополка, «оставил все свое наследство двум сыновьям», т.е. Ярославу и кому-то еще — очевидно, Борису (летопись знает 12 сыновей Владимира, но Титмару известны только трое — Святополк, Ярослав и третий, не названный по имени — в полном соответствии с кругом реальных участников усобицы 1015-1019 гг.). Данные Титмара о судьбе Святополка сразу после смерти Владимира расходятся с данными древнерусских источников: «Повести временных лет» и «Сказания о св. Борисе и Глебе». Согласно последним, Святополк сумел овладеть киевским столом, так как Борис с дружиной Владимира был в походе против печенегов, а Ярослав княжил в далеком Новгороде; первым делом он принялся истреблять младших братьев: Бориса, Глеба и Святослава (ПВЛ. С. 58-61; Сказ. БГ. С. 28-44). Титмар же уверяет, будто Святополк бежал из темницы в Польшу к Болеславу, оставив в Киеве в заключении свою жену. Это свидетельство современника некоторым кажется предпочтительней, чем древнерусское предание, записанное много позже и несколько затемненное, вследствие агиографической стилизации. Но если Святополк бежал в Польшу не после битвы с Ярославом у Любеча осенью 1016 г. (как о том сообщают летопись и «Сказание»), а сразу же после смерти Владимира, и, вернувшись в Киев с помощью своего тестя Болеслава летом 1018 г., застал на киевском столе уже Ярослава Владимировича, то кто же тогда убил Бориса и Глеба? Выходит, что убийца — не Святополк Окаянный, а Ярослав Мудрый? Эта гипотеза в последние сорок лет получила довольно широкое хождение, к ее обоснованию пытались привлечь и некоторые другие источники (например, скандинавскую «Прядь об Эймунде»; см.: часть V, гл. 4.2). И все же надо признать, что столь интригующая версия вряд ли заслуживает своей громкой популярности. Если почитание святых братьев-княжичей началось уже при Ярославе, то как последнему удалось ввести в массовое заблуждение своих современников, многие из которых еще прекрасно помнили события 1015 г.? Но даже ограничиваясь только текстом Титмара: зачем и от кого было Святополку бежать из Киева, если ни Бориса, ни Ярослава в нем не было? Есть у гипотезы, обеляющей Святополка, и хронологические трудности.
|